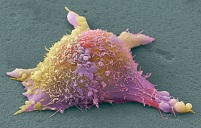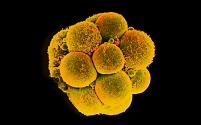Что позволило Вам открыть в России полноценную лабораторию?
 5574
5574 0
0
Мы продолжаем серию интервью с учеными, сумевшими создать в
современной России исследовательские лаборатории мирового уровня. На этот раз
наш собеседник – Константин Северинов, д.б.н., профессор Университета Ратгерса
(США), а также заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и
в Институте биологии гена РАН.
Константин, прежде
чем говорить о том, как и почему Вы решили вернуться из США и развивать науку в
России, скажите, как Вы оказались в Америке?
– Окончив в 1990 году биофак МГУ, я поступил в аспирантуру
Института молекулярной генетики (ИМГ) РАН, а потом в рамках программы обмена
между академиями наук СССР и США на средства стипендии Джорджа Сороса был
направлен в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где проработал два года. В
1993 году вернулся в Россию, защитил кандидатскую в своем институте, затем два
года работал в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке. В 1997 году
организовал свою лабораторию в Университете Ратгерса в Нью-Джерси и с тех пор
работаю там, занимаюсь регуляцией транскрипции генов бактерий.
Я являюсь американским гражданином, но не считаю, что уезжал
из России. С 1995 года я учился в докторантуре Института молекулярной генетики,
где мы с сотрудниками готовили дипломников и аспирантов в нашей бывшей
лаборатории, также помогали ее поддерживать материально. Многие из этих
дипломников и аспирантов потом работали в моей американской лаборатории. За 10
лет по результатам этих исследований более 10 человек защитились в России, И
хотя все за исключением одного затем вернулись в США, все они в каком-то смысле
являются частью русской научной традиции.
Сколько времени Вы
сейчас проводите здесь и сколько – в Америке?
– Мой теперешний ритм – два месяца здесь, потом две недели
там. Это ограничение, которое накладывает получение «Георгиевского» гранта, я
подписал бумагу о том, что не менее девяти месяцев в году провожу в России. Не
считаю, что это правильное требование, но по такому графику я существую уже
несколько лет, и он позволяет мне поддерживать свои лаборатории и там, и тут.
Что позволило Вам
открыть в России полноценную лабораторию? Ведь это дело по нашим временам
далеко не простое…
– Сначала мне пришлось защитить докторскую диссертацию. Было
принято решение о возможности защиты по совокупности опубликованных статей, но
непредвиденно возникли проблемы с ВАКом, еще некоторое время назад не
признававшим статьи в западных журналах за публикации, достойные российской
научной степени, а статей в русских журналах у меня не было. С помощью коллег
эти трудности удалось разрешить. На «Георгиевский» грант я подал в конце
прошлого года, тогда же подал заявку и на грант РФФИ. Так как эти
href="http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=2867">гранты даются в
значительной степени по формальным показателям (уровень публикаций), я
получил оба гранта. В итоге у меня бюджет около пяти миллионов рублей в год,
что позволяет существовать в Институте молекулярной генетики, не спонсируя
лабораторию деньгами моих американских грантов.
Сейчас я открываю еще одну лабораторию в Институте биологии
гена РАН, при этом группа в ИМГ продолжит свою работу.
Насколько «Георгиевские»
гранты похожи на те, с которыми Вы имеете дело в США?
– Совсем не похожи, идеология совершенно другая. Возможно, в
здешних условиях она более правильная. Для получения «Георгиевского» гранта
относительно неважно, что вы напишете в проектной части заявки, играет роль
лишь то, что у вас есть в качестве задела, сколько публикаций в престижных
журналах. В США же заявка на грант, сравнимый с Георгиевским по бюджету, – это
25 страниц убористого текста с очень подробным изложением экспериментов,
времени их выполнения, процедур контроля и так далее.
На что хватает
полученных по этому гранту денег?
– К сожалению, у них есть принципиальные ограничения.
Например, 40% общей суммы гранта должны быть заложены на зарплату, а 10% от
общей суммы забирает институт.
А почему «к сожалению»?
– Потому что, получив грант в Америке, я полностью свободен
в том, как я его трачу. Если из общего бюджета в 250 тысяч долларов на
оборудование нужно потратить 200 тысяч долларов, я столько и потрачу. Здесь же
40% я обязан положить на зарплату, а остальные деньги должен сразу расписать по
разным позициям. К сожалению, и перераспределять эти деньги в течение года
нельзя, что противоречит непредсказуемой природе научной работы. А тут типично
советская ситуация: деньги, выделенные на конкретный год, нужно обязательно
потратить в этом же году… Если я этого не сделаю, они уйдут обратно в
казначейство. В Америке такого нет, и я могу аккумулировать средства и тратить
их в дальнейшем. Такая несвобода распоряжения полученными средствами очень
стесняет. Наконец, полагающиеся институту 10% отчисляются непосредственно из
полученных мной денег. В Америке университет получает больше 50% от суммы моего
гранта, но эти деньги отдельные, т.е. они не вычитаются из моего научного
бюджета. И, пожалуй, самое главное: деньги российских грантодателей приходят
непредсказуемо и всегда с опозданием: финансирование за 2007 год началось не в
январе, а в июне!
Тем не менее, сейчас лаборатория в ИМГ в целом оборудована
всем необходимым. Конечно, возникают и специфические русские проблемы,
задержки, к которым сложно привыкнуть. Скажем, часть приборов и материалов,
которые мы заказали в июле, до сих пор не получены.
Оборудование иностранное?
– В большинстве своем да. Большим недостатком работы в
России является и то, что
href="http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=2882">за это
оборудование я плачу в два раза больше, чем в Америке. В итоге часть
приборов я просто покупаю в США на американские деньги и везу сюда.
Пожалуй, главное на сегодняшний день, что позволил мне
сделать «Георгиевский» грант, это организовать экспедицию на Камчатку для сбора
проб из горячих источников вскоре после оползня в Долине гейзеров. За счет
гранта был нанят вертолет, куплены все необходимые для экспедиции вещи. Здесь я
имел полную свободу.
С чем связаны
основные организационные проблемы? На что уходит время?
– На массу вещей: от получения разрешения на работу с
радиоактивностью и медкомиссии до общения с институтской администрацией,
которая хотела бы использовать часть грантовских денег для ремонта лабораторных
помещений. В Америке такая практика запрещена. На общение с бухгалтерией и
попытки выяснить, когда же, наконец, придут деньги из академии, на выяснения
отношений с поставщиками, задерживающими товары. В США, если не считать
администрированием рецензирование статей и грантов других ученых, общение с
сотрудниками лаборатории, определение и уточнение планов работы, интерпретацию
результатов и подготовку их к публикации, то тогда, когда я не пишу грант, я
полностью свободен для научной деятельности. В нашем американском институте 12
лабораторий, годовой бюджет 60 миллионов долларов, у нас есть офис из трех
сотрудниц на постоянных ставках, две из них делают по нашим просьбам заказы
оборудования и материалов, а третья следит за счетами.
Несмотря на все эти различия, непреодолимых сложностей для
работы здесь, в России, у меня нет. Лаборатория функционирует, по результатам
нашей работы мы
href="http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=3023">публикуем
статьи в хороших международных журналах.
Как Вы находите
сотрудников?
– С людьми большие проблемы. Сейчас у меня две аспирантки,
две дипломницы и одна защищенная научная сотрудница, которая сама меня нашла и
с которой мне повезло. Кроме того у меня есть несколько сотрудников и
аспирантов как из ИМГ, так и из других институтов Москвы и Пущино, которые не
являются сотрудниками моей лаборатории, но с которыми мы ведем совместные работы,
частично или полностью поддержанные моими грантами. Сегодня в России, к
сожалению, легче находить хороших людей и работать с ними там, где ты их нашел,
чем административно перетягивать их к себе.
Участвуете ли в
образовательном процессе? Много ли сотрудников набрали из своих студентов?
–Я уже второй год
веду семинар под лекционный курс академика Гвоздева для студентов 4 курса
кафедры молекулярной биологии МГУ. Я был одним из первых, кто слушал этот
замечательный семинар 20 лет назад, а теперь я его «унаследовал». Надо сказать,
что это была моя инициатива, и кафедра не сразу согласилась. Мне семинар очень
нравится, студентам, кажется, тоже. Это очень хороший способ находить людей,
которые будут работать в лаборатории. Вместе с группой бывших выпускников
кафедры, живущих в Америке, мы возродили премию за лучшую курсовую работу,
выполненную на кафедре. Эта премия – имени выдающегося ученого Р. Б. Хесина –
была выдана первый раз в прошлом году: 1,5 тыс долларов за первое место, 1 тыс
– за второе, 500 долларов – за третье, в этом году вручим новые. Хотя мой
семинар и является, в некотором смысле, рекрутингом, но «покупкой» студентов
его назвать нельзя – ни один из получивших прошлогоднюю премию не пришел ко мне
выполнять дипломную работу.
Кстати, вместе с группой бывших выпускников этой кафедры,
живущих в Америке, мы в прошлом голу возродили именную премию – в честь
выдающегося ученого Романа Бениаминовича Хесина – за лучшую курсовую работу,
выполненную на кафедре: полторы тысячи долларов – за первое место, тысяча
долларов – за второе, 500 долларов – за третье. В этом году вручим ее опять.
Кстати, если речь
зашла о Ваших сокурсниках, где они сейчас работают?
– Точной информации у меня нет, но думаю, как минимум
половина живет в Америке. Те, кто работает по моей специальности и с которыми я
знаком лично или по публикациям, находятся за пределами России.
Насколько эта
ситуация характерна для биофака МГУ в целом?
– Я думаю, что
href="http://www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=136">весьма характерна,
так как те, кто хотят заниматься наукой на высоком уровне, уезжали и, наверное,
продолжают уезжать. Статьи по биологии публикуются, но они часто низкого
качества; хороших статей, написанных по результатам работ, выполненным внутри
страны, крайне мало. Хорошие публикации надо рассматривать скорее как
исключение, а не как правило, не как тенденцию.
Связано ли это с тем,
что интерес к life sciences в России был в последние десятилетия гораздо
меньше, чем в мире, и мы продолжали традиционно концентрироваться на физике и
математике?
– Я не могу обсуждать ситуацию в физике и математике, я ее
не знаю. За последние 20 лет в биологии произошло несколько революций, возникли
абсолютно новые технологии, новые методы, новые подходы. К сожалению, ни в одну
из этих революционных волн российская наука о живом как структура не внесла
ничего значительного. Российские ученые и научные менеджеры находятся в
положении догоняющих. Кто-то на Западе изобрел нанотехнологии, а кто-то здесь
решает: «А почему бы и нам этого не сделать?». Де Кюстин говорил, что русские –
народ-подражатель. Если это так, то в данном случае мы находимся в особенно
неблагоприятной ситуации, так как бежим за уходящим поездом, который несется
гораздо быстрее нас.
Я заметил, что у
всех биологов наноинициатива вызывает особенное раздражение…
– В американской академической среде, имеющей отношение к
life sciences, действительно, распространено мнение, что нанотехнологии – это,
мягко говоря, не очень хорошая наука, но которая приносит большие
государственные контракты. Я подозреваю, что когда в России затевалось развитие
нанотехнологий, копировалось даже не желание сделать что-то, а ощущение, что
это – хороший способ получать государственные деньги.
Вы считаете, не
следует учреждать госкорпорацию в области наук о живом, подобную Роснанотеху?
– Мне кажется, основная проблема в этой области сегодня –
кадры. Я не уверен, что сложившуюся тяжелую ситуацию можно исправить большими
денежными вливаниями. Возможно, средств и сейчас не так мало, как кажется. Было
бы интересно, например, посмотреть, сколько денег в целом идет в нынешние
биологические НИИ, и посчитать их научный «выход». А потом сравнить с «выходом»
на такую же сумму затраченных денег в среднестатистическом американском
университете. Уверен, сравнение будет сильно не в пользу российской науки.
Может быть, необходим
качественный скачок в зарплате ученых?
– Не думаю, что это окажет заметное влияние. Изменит
ситуацию подготовка новых квалифицированных и увлеченных кадров, новая
организационная структура науки. Люди не получают результатов или публикуют
плохие статьи не потому, что у них мало денег (иногда наоборот). В значительной
степени теперешняя ситуация связана с исторической оторванностью нашей науки от
мировой. Мы до сих пор пожинаем результаты уничтожения Кольцова, Четверикова,
Вавилова и многих других. Конечно, было бы прекрасно, если бы на российской
почве появился новый Павлов или Мечников. Однако для этого необходимо скорее
наличие живого, работающего и думающего научного сообщества, которое бы
являлось интегральной частью мировой науки, чем деньги как таковые. Тот же
Павлов в советское время имел больше денег на эксперименты, чем до революции,
но основные свои результаты он получил до 1917 года. По-моему, думать, что
деньги сами по себе что-то решают, – порочный путь.
Выходит, главное
сегодня – реформа системы подготовки молодых кадров. Как в таком случае Вы
относитесь к идее сконцентрировать государственные ресурсы не на НИИ, а на
вузовской науке?
– Само по себе это ни хорошо, ни плохо. Я вырос как ученый в
Московском госуниверситете, но никогда не чувствовал себя оторванным от
академических институтов. Сейчас многие ученые, преподающие в МГУ, работают в
НИИ РАН и других ведомств.
Безусловно, в большинстве российских университетов наука не
ахти какая. Но иначе и быть не может, так как сотрудники университетов большую
часть времени заняты обучением студентов. В целом, ситуация в американских университетах
похожая, хоть там и нет разделения на академическую и университетскую науки.
Ведь в американских университетах, где, собственно говоря, и проводятся
основные исследования, есть очень четкая дихотомия. Те люди, которые занимаются
наукой, учат по минимуму, за свое профессорское звание они получают от
университета зарплату. Я, например, читаю шесть лекций в год, но меня держат не
за эти шесть лекций, а за то, что я привлекаю сотни тысяч долларов грантовых
денег, от которых университет получает значительные суммы в виде накладных
расходов. Это многократно перекрывает затраты на мою зарплату. С другой
стороны, если я начинаю терять гранты, то очень скоро количество лекций,
которые я должен читать, увеличится. И выходит, что обучением студентов в основном
занимаются «неудачливые» ученые.
И все-таки, стоит ли
тратить большие деньги на закупку современного оборудования, приборов для
ведения исследований в вузах?
– Можно приехать в какой-нибудь университет и сказать, что
если сегодня мы потратим много денег, закупим всем масс-спектрометры и споттеры
биочипов, то завтра наука начнется автоматически. Я знаю, что так делается,
понимаю, почему так делается, но что же ожидается от всего этого? Будут игры во
время закупок дорогих приборов, а дальше что? Оборудованная лаборатория сама по
себе не сделает ученого.
Эта проблема в Америке тоже есть. В основном, наука о живом
и современные биотехнологии концентрируются в двух точках: в Калифорнии и на
северо-востоке США – от Бостона до Вашингтона. Человек, который работает в
Вайоминге, вполне может иметь лучше оборудованную лабораторию, чем человек,
который работает в Нью-Йорке. Но делать науку высокого уровня ему будет
сложнее. Причина одна – большинство людей, которые занимаются наукой, как
профессора, так и студенты, хотят быть рядом с людьми, которые занимаются
наукой достойного уровня.
Можно ли создать
такую точку роста в России?
– Прежде всего, должно быть решение, поясняющее, зачем
государству это нужно. Сегодня моя кафедра производит ровно столько же специалистов,
сколько производила, когда я был студентом. Не очень понятно, для чего.
Большинству этих людей будет негде применить в России свои профессиональные
навыки.
А кому же
разрабатывать инновации для биотехнологии?
– По моему, было бы неправильно, если бы МГУ – лучший
университет страны – готовил молекулярных биологов для коммерческого сектора.
Даже в лучших западных компаниях уровень требований к профессиональным навыкам,
самостоятельности и способности творчески мыслить ниже, чем в академических
лабораториях.
Неужели в той же
Америке все студенты становятся университетскими учеными?
– Нет, но биотехнология строится вокруг сильных
университетов, и она возникает вторично от научной деятельности.
Вот и ответ на вопрос
«зачем создавать биокорпорацию?».
– Да, но проблема в том, что она не может возникнуть просто
так, сразу. Это перспектива на десятилетия. Странно было бы создать лабораторию
и через год требовать от нее результатов, которые можно было бы использовать в
коммерции. Тем более что ни одна из государственных биологических лабораторий,
занятых фундаментальной наукой, по определению не должна работать на коммерцию
как таковую. Коммерчески значимые результаты – это побочный продукт. Так что
зачем нужно, чтобы биофак работал, все-таки не ясно.
Чтобы в конечном
итоге слезть с нефтяной иглы: диверсифицировать экономику, развивать наукоемкое
производство.
– Что значит наукоемкое производство – купить технологию или
она должна здесь естественно возникнуть, вырасти, как клюква?
Скорее всего, она
должна возникнуть у нас, чтобы потом мы могли лицензии продавать по всему миру.
– Тогда, по-видимому, надо заложить финансирование на очень
долгосрочную перспективу и просто поддерживать очень хорошие лаборатории в
максимально возможном количестве. Чем больше будет хороших лабораторий, чем
больше ученые будут друг с другом общаться, ездить по всему миру, рассказывать
о своих результатах и обсуждать их, а потом ставить новые и новые эксперименты,
тем с большей вероятностью что-то возникнет.
А у нас сейчас есть
хорошие биологические лаборатории?
– К сожалению, сейчас их у нас очень мало. Для страны такого
масштаба, я бы даже сказал, их число незаметно. Ни с одной из
западноевропейских стран и сравнить нельзя.
Есть ли смысл
копировать китайские инициативы по выделению больших денег возвращающимся на
родину ученым?
– Я думаю, что «возвращенцев» как таковых не будет. Сейчас
много говорят, что нужно возвращать постдоков. В мире есть три ступени научного
статуса – можно быть аспирантом, можно быть постдоком, можно быть завлабом на
постоянной или временной позиции. Завлаб без постоянной позиции – без tenure –
не может позволить себе ездить из Европы и Америки сюда просто потому, что он
должен много работать, чтобы через шесть лет свой tenure, наконец, получить.
Постдок, находящийся в здравом уме, сюда не поедет, потому
что если он действительно талантливый, он найдет себе место сообразно своим
способностям – по крайней мере, в life sciences сильнейший кадровый голод. За
границей у него понятные перспективы работы и карьерного роста, здесь их нет.
Кроме того, без всякого административного опыта его здесь задавят. На мой
взгляд, ставка должна делаться только на людей с tenure, свободных в своих
передвижениях.
Ученым, которые хотят развивать науку на своей родине, нужно
создать соответствующие условия, чтобы они могли это делать. Например,
ограничение в девять обязательных месяцев пребывания в России для получателя «Георгиевского»
гранта надо отменить. От такого ученого единственное, что имеет смысл
требовать, – это то, что он должен здесь наладить эффективно работающую
лабораторию, которая будет заниматься передовой наукой, будет «вписана» в
систему международной науки и готовить студентов и аспирантов. Не надо бояться,
что эта лаборатория сначала будет зависима от иностранной, – с годами
выяснится, где окажется центр тяжести.
Насколько нынешняя
академическая система благоприятствует появлению таких лабораторий?
– Академия по политическим соображениям, по-видимому, не
сможет отменить девятимесячное требование – поднимется вал возражений, что
деньги тратят на «варягов». Ясно, что нужно искать негосударственные деньги. Но
тогда возникает проблема, как работающих на частные средства ученых вписать в
академическую или вузовскую структуру.
Я уверен, что очень полезным был бы опыт Медицинского
института имени Говарда Хьюза (HHMI), который существует в Америке и объединяет
несколько сотен лучших ученых США. Это действительно самые лучшие ученые, самые
продуктивные, самые «модные» специалисты, процент Нобелевских лауреатов среди
них чрезвычайно высок, не обошлось без «Нобеля» в их среде и в этом году.
Идея, лежащая в основе института, проста: организуется
открытый конкурс на новое исследовательское место и присвоение статуса «HHMI
investigator». Сумма контракта зависит от биржевых котировок бумаг Фонда Хьюза
и составляет не менее миллиона долларов в год с возможным продлением через пять
лет. Подать заявку может профессор из любого университета. После определения
победителя Фонд Хьюза вступает в переговоры с университетом, где работает
данный профессор, и предлагает такую схему: этот человек продолжает быть вашим
профессором, но зарплату ему платим мы. Мы организуем ему собственную
бухгалтерию, через нас он будет делать все заказы, нанимать людей тоже через
нас. За это вы нам должны предоставить и отремонтировать определенное
количество площадей, где этот человек будет работать, а мы будем платить вам
солидную арендную плату.
То есть фактически
Институт имени Говарда Хьюза представляет собой распределенную по всей Америке
сеть исследователей?
– Да, он не существует в одном месте как единая структура.
Администрации всевозможных организаций мечтают, чтобы их завлабы стали HHMI
investigators, потому что они приносят не только престиж, но и дополнительные,
весьма большие деньги. Это очень эффективный способ привлечения на свою сторону
администрации университета.
При этом все получатели денег Фонда Хьюза сознают, что они
находятся в элитном клубе и работают от этого не меньше, а больше. Я знаю
многих людей, имеющих подобный статус, и для них самый большой стресс – это
продление контракта. Грубо говоря, они «сели на иглу».
Остается понять, как
это может заинтересовать российских бизнесменов.
– Для того чтобы все заработало, нужно создать критическую
массу. Для Москвы это, по моим прикидкам, минимум 10 лабораторий. Причем
конкурс должен быть как для резидентов, так и для диаспоры, и даже для
иностранцев. Естественно, отбор должен производиться международными экспертами.
Главное в этой схеме – наличие организации, которая прикрывает индивидуальные
(независимые) лаборатории в отношениях с институтом.
Вы уже вели
переговоры на эту тему с бизнесменами?
– Да. Но, как мне объяснили владельцы компаний с годовым
оборотом до миллиарда долларов, интереса в этом у них пока нет. Если бы они
могли списывать сумму под гранты из налогов, они бы это сделали с
удовольствием, а в отсутствие такой возможности они вынуждены отрывать деньги
от прибыли. Так что пока это остается только идеей. Впрочем, если не начать ее
реализовывать, о развитии в России наук о жизни, возможно, придется забыть.
Во сколько такая
инициатива может обойтись спонсорам?
– Очевидно, что миллион долларов в год – слишком много. Но,
как минимум, сумма должна быть не меньше, чем полный «Георгиевский» грант, то
есть порядка пяти миллионов рублей в год на человека на пять лет, плюс определенная
сумма, которая пойдет институту за аренду помещения. Реально на все это, а
также на создание бухгалтерии, центрального офиса и прочего должно хватить 25
миллионов на пять лет, конечно, при наличии юридической базы, ныне
отсутствующей. Вот такая схема позволила бы ученым вернуться не только в
Москву, а даже, например, в Новосибирск или Иркутск.
Интервью записал Иван Стерлигов, обозреватель
Экспертного канала ВШЭ-OPEC, специально для STRF.ru